- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Заказать консультацию
О времени и взглядах Льва Толстого и Сергея Рачинского
Утверждаясь на самобытном национальном пути, мы не можем не взглянуть на две значительные фигуры Золотого XIX века, которые оказали серьезное влияние на русскую мысль. Лев Толстой и Сергей Рачинский – дворяне, обладавшие средствами для осуществления проектов на благо народа, прекрасно образованные в традициях своего времени, наделенные даром проповеди, даром слова – оба они члены-корреспонденты Императорской академии наук по отделению словесности, педагоги, выработавшие свои оригинальные методики, сочинители и исполнители музыкальных произведений.
Лев Толстой, воскликнувший в завершении своих «Севастопольских рассказов»: «Велики судьбы славянского народа! Недаром дана ему эта спокойная сила души, эта великая простота и бессознательность силы!..» Лев Толстой, не совладавший со своим великим даром перед лицом Творца и отпавший от мудрости и крепости Церкви. И Сергей Рачинский – профессор Московского университета, впервые возглавивший кафедру физиологии растений, «учитель века» и даже «учитель земли Русской», как его называли более столетия назад, подвижник, создавший образец русской сельской школы на опыте Священного Писания и церковного искусства.
Своей просветительской работой и деятельностью по организации масштабного трезвеннического движения Рачинский во многом способствовал укреплению церковной жизни – как в своем уезде, так и в тех краях России, куда расходились воспитанные им учителя и священники Примерно в одни и те же годы и Толстой и Рачинский посещали школы Европы. Рачинский специально занимался изучением опыта профессора Йенского университета Карла Стоя, основателя нескольких учебных заведений. И Толстой, и Рачинский независимо друг от друга отмечали, что опыт прогрессивных немецких школ неприемлем для русской школы.
Дружба меж ними завязалась, когда писатель и ученый занялись общим делом – устройством сельских школ: Толстой – в тульской Ясной Поляне, Рачинский – в смоленском Татеве. В марте 1877 года Рачинский писал Толстому: «Методы обучения у меня не выработалось никакой. По утрам я учу старший класс всему, по вечерам занимаюсь всеми классами, то попеременно, то вместе. Модные предметы у нас арифметика и музыка, а также каллиграфия…
Интересно
Я застал четырнадцать мальчиков, живущих в училище, – это у нас явление общее – деревни мелки и разбросаны. Построив новое училище, присоединил к ним еще четырех… С родителей берется только мука на хлеб, остальное, как и вся школа, – на мой счет». И Толстой ему отвечал: «Вы не поверите, какую истинную и редкую радость мне доставило чудесное письмо ваше, дорогой Сергей Александрович. Читая его, я переживал свои старые школьные времена, которые всегда останутся одним из самых дорогих, в особенности чистых, воспоминаний.
Воображаю, каких вы наделали и наделаете чудес… Учить этих детей надо затем, чтобы дать им дощечку спасения из того океана невежества, в котором они плывут, и не спасения, – они, может быть, лучше нас приплывут, – а такое орудие, посредством которого они пристанут к нашему берегу, если хотят. Я не мог и не могу войти в школу и в сношения с мальчиками, чтобы не испытать прямого физического беспокойства, как бы не просмотреть Ломоносова, Пушкина, Глинку, Остроградского, и как бы узнать, кому что нужно…»
И все же это были две в корне различающиеся школы. Яснополянская отличалась отсутствием всякой регламентации, дисциплины и определенной программы преподавания. Сам Толстой, преподававший в школе, и несколько его соратников-учителей считали своей главной целью заинтересовать класс, научить детей самосовершенствованию.
Но при отсутствии всякого идеала эта работа не могла быть полноценной. Школа Рачинского была классической церковной школой, одновременно общинной, что было просто, понятно и естественно для крестьянского мира. В то предреволюционное время даже из школы Рачинского выходили «свободомыслящие» молодые люди, а уж многие ученики Толстого и подавно становились бунтовщиками и каторжниками.
После 1870-х годов Толстой окончательно отошел от традиционного православия, которое жило в нем генетически и сквозило в строках «Войны и мира», разрабатывал свою идеологию ненасильственного анархизма, отрицал присутствие всякого чуда в Новом Завете, а значит, и само рождество Господа, и Его воскресение.
В 1881 году Толстой посетил старца Амвросия Оптинского и записал в дневнике, что на душе у него стало легче. На этом бы и остановиться, как советовал ему старец – «не отступайте от Церкви». Но далее Толстой впал в яростное поклонение народу, что Н. А. Бердяев назвал народобожием, и не заметил благотворных, созидательных для государства шагов Александра III, не смог снисходительнее отнестись к негативным явлениям в Церкви, описанным – все же с любовью (!) – Н. С. Лесковым. Об этих же явлениях – склонности к винопитию, отсутствии усердия к просветительской деятельности у сельских батюшек, – но не разрушая Церковь, а укрепляя и воспитывая священников из крестьян, говорил и С. Рачинский в «Письмах к духовному юношеству о трезвости».
Статьи по теме
Полезные статьи







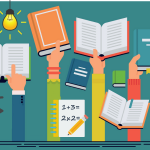

Узнайте цену услуг:
Узнай цену консультации
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)

