- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Заказать консультацию
Методологические основы сравнительной криминологии
Сравнительный подход является фундаментальной характеристикой криминологии и «встроен» в процесс ее развития. «Сравнительная криминология так же стара, как и сама криминология, – справедливо отмечают американские криминологи Г. Говард, Г. Ньюмен и В. Прайдермор. – Беккариа, Бентам, Вольтер, Гельвеций, Кетле и многие другие деятели эпохи Просвещения сравнивали отечественную систему юстиции с правовыми системами других государств».
Широко использовали сравнительные материалы о личности преступника, преступности и ее причинах основатели криминологической науки Ч. Ломброзо, Э. Ферри, Г. Тард, А. Кетле, А. Герри.
Междисциплинарная природа криминологии предопределяет интерес к другим отраслям научного знания, требует постоянного изучения (мониторинга) результатов, полученных отечественными и зарубежными криминологами и представителями других наук.
В. В. Лунеев определяет сравнительную криминологию как отрасль криминологической науки, изучающую в сопоставлении общие мировые, региональные и специфические национальные тенденции и другие характерные черты преступности, ее причинную базу и меры противодействия, а также основные теории о происхождении преступности, ее обусловленности и путях предупреждения.
Элмер Джонсон отмечает, что сравнительная криминология вначале получила широкое признание в качестве кросс-культурного анализа преступности в целях установления различий и сходства преступности в двух и более странах, а затем – по мере глобализации – она стала исследовать закономерности преступности и функционирования институтов уголовной юстиции в контексте развития экономических, социальных и культурных систем.
Обобщая вышесказанное, можно определить сравнительную криминологию как отрасль криминологической науки, которая изучает криминологические явления, их исследования, состояние и практику социально-правового реагирования на правонарушения в двух и более странах с целью оптимизации борьбы с преступностью и развития международного сотрудничества в этой сфере на основе сравнительно-правового и дополняющих его подходов.
В. В. Лунеев полагает, что предмет сравнительной криминологии включает в себя сравнительную преступность, сравнительные теории причин преступности, международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Действительно, по мере своего развития сравнительная криминология трансформируется в международную криминологию, которая исследует глобальные криминальные и криминогенные явления.
Интересно
В монографии Р. Винслоу и Ш. Чанга «Криминология: глобальная перспектива» в предмет исследования, кроме обзора теорий преступности и сравнительного анализа опасных видов преступлений, включены организованная преступность, торговля наркотиками и людьми, терроризм и беловоротничковая преступность.
В работе «Транснациональная и сравнительная криминология» под редакцией Дж. Шептицкого и А. Вардака логика изложения развивается от сравнения состояния преступности и уголовной юстиции в различных странах к установлению общих для всего мира криминальных проблем.
О развитии сравнительной криминологии именно по такой логике пишет английский криминолог Ф. Пэйкс в своей статье «Сравнительный метод в глобализирующейся криминологии». Налицо закономерность трансформации сравнительной криминологии в международную (мировую) криминологию.
Такая закономерность хорошо просматривается и по работам ведущих российских криминологов-компаративистов. Так, О. Н. Ведерникова в 2005 г. публикует статью с красноречивым названием «О состоянии преступности в стране и мире, криминоглобалистике и антиглобализме», а В. В. Лунеев в 2011 г. издает двухтомник «Мировой и российской криминологии».
Предмет международной криминологии, по мнению О. Н. Ведерниковой, составляют мировые тенденции преступности, факторы криминальной глобализации и мировая стратегия борьбы с преступностью.
В. В. Лунеев замечает, что «преступность проникает в экономику, политику, культуру, спорт, средства массовой информации, в компьютерную сферу, в правоохранительные и иные государственные органы, в исполнительную, законодательную и судебную власть, в организационные процессы в литературе, искусстве, кино и даже науке.
Преступность генерализуется и дифференцируется одновременно. Она оперативно использует демократию и автократию, войны и революции, победы и поражения, катастрофы и спасение от них, болезни и их лечение, человеческую гениальность и пороки.
Каждый день в разработке новых способов преступлений задействованы миллионы профессионалов, нередко очень талантливых, а в разработке методов борьбы с преступностью – сотни и тысячи практических работников и ученых. Но среди них немало дилетантов. Профессионализм преступников, особенно в экономической сфере, зачастую оказывается выше квалификации борцов с преступностью».
Следовательно, предмет сравнительной криминологии динамичен. Он меняет свое содержание в зависимости от тех проблем, которые являются актуальными для мирового сообщества в целом и затрагивают интересы каждой страны в отдельности в данный период развития человеческой цивилизации. Именно эти проблемы выступают на авансцену, к ним должно быть приковано внимание специалистов в области сравнительной криминологии.
Интересно
В настоящее время наиболее актуальными вызовами мировой цивилизации являются криминализация общественных, государственных и международных отношений; преступность как национальная и транснациональная проблема; формирование новых технологий управления социумом, в содержание которых включается заведомо криминальный элемент.
Поиск ответов на эти вызовы требует интенсификации исследований в области сравнительной криминологии и, с одной стороны, предполагает выведение ее на «метауровень» – уровень глобальных обобщений. Как видим, круг целей сравнительных криминологических исследований при этом расширяется (становится более емким). С другой стороны, прагматическая задача сравнительной криминологии в этом случае заключается в определении оптимальных стратегий противодействия гибельным процессам социодинамики.
По мнению Джулии Муджеллини (Миланский католический университет), перед сравнительной криминологией стоят четыре основные цели:
- выявление того, насколько структуры и культуры на национальном уровне влияют на степень, виды, распределение и характеристики преступлений и борьбы с преступностью внутри стран и в разных странах;
- развитие криминологии с теоретической точки зрения посредством оценки применимости значимых криминологических теорий за пределами культурных и национальных границ;
- оценка результатов деятельности национальных систем уголовного правосудия и оценка действенности национальной, европейской и международной политики в области уголовного правосудия в разных странах;
- осознание сильных и слабых сторон систем борьбы с преступностью в целях разработки согласованных действий правоохранительных органов в отношении транснациональной преступности.
Такие преступления, как отмывание денег, оборот наркотиков, торговля людьми и некоторые виды профессиональных краж и автомобилей, относятся к результатам глобализации, поэтому противодействие им должно быть глобальным.
Как справедливо отмечает Ян ван Дейк в своей монографии, многозначительно названной «Мир преступности: нарушим заговор молчания вокруг проблем безопасности, правосудия и развития», «национальные меры по предотвращению преступности требуют надежных международных сведений о национальной преступности во всем мире».
Таким образом, логика развития предмета сравнительной криминологии восходит от одномерного анализа (преступление, преступник и его жертва) к многомерному (факторы преступности), системному (транснациональная организованная преступность) и метасистемному (криминальные глобальные проекты); от внутригосударственных исследований к межгосударственным и межрегиональным и далее – к мировому глобальному криминологическому анализу.
В методологическом плане принципиален ответ на вопрос о соотношении сравнительного правоведения и сравнительной криминологии. Криминология – правовая наука. В России, где криминология в значительной мере есть порождение уголовного права, этот тезис вряд ли нуждается в подробном обосновании.
Патриархи российской криминологии (А. А. Герцензон, В. Н. Кудрявцев, И. И. Карпец и др.) были выдающимися специалистами в области уголовного права и никогда не переставали быть таковыми. Криминологию в РСФСР, СССР и РФ традиционно разрабатывают преимущественно юристы, и это придает отечественной криминологии своеобразный и неповторимый характер.
Здесь получает ответ вопрос о характере отечественной криминологии – она является по своей исторической судьбе, специализации наиболее выдающихся ученых, специфике мышления – юридической наукой. Ее место в классификации научных специальностей определено совершенно правильно, и на этом месте криминология призвана быть максимально прагматичной.
Важное преимущество российской криминологии как правовой науки заключается в возможности воспользоваться результатами сравнительного правоведения. С методологической точки зрения это преимущество во времени, поскольку не надо тратить временные ресурсы на «повторение пройденного», начиная разработку методологии сравнительной криминологии с нулевой точки.
Большое методологическое значение для сравнительной криминологии имеет теория правовых систем, которая стала подвергаться наиболее интенсивной разработке в рамках компаративистики. Правовые системы имеют сложную архитектонику. В теоретико-правовой литературе структура правовой системы, к сожалению, является малоизученной категорией, поэтому необходимо оговорить ряд принципиальных положений, которые приняты за основу в настоящей работе.
Первое из них касается определения того первичного элемента («кирпичика»), являющегося материалом, из которого формируется правовая система. Анализ работ по теории права, где затрагивается этот вопрос, дает основание отметить популярность мнения, что таким первичным элементом служит норма права.
Имея в виду триединство содержания правовой системы (совокупности господствующей правовой идеологии, законодательства и юридической практики), логично предположить наличие триады и в первичном элементе правовой системы. Норма права представляет лишь одну сторону предполагаемой триады. Другими сторонами выступают правовая этика и правосознание.
Правовая этика выражает, во-первых, воплощение нравственности и морали данного общества в правовых нормах, включая «глубинные» этические пласты, определяющие менталитет данного этноса (народа, нации). Этот менталитет, в частности, включает в себя отношение к добру и злу, справедливости. Во-вторых, правовая этика формирует правовую идеологию, что видно из динамики отношения к правоохраняемым ценностям. В-третьих, правовая этика участвует в создании правовых норм, в-четвертых, находит выражение в сложившихся типах правоприменения, а в идеале формирует эти типы и ориентирует юридическую практику.
Связывает этику и норму права правосознание, которое привносит личностный аспект в статику и динамику правоотношений. Кроме того, справедливо отмечено, что сама реализация прав и обязанностей, составляющих содержание правоотношения, осуществляется через сознательную деятельность его субъектов и сами по себе ни норма, ни тем более правоотношение не способны обеспечить правомерное поведение.
Интересно
Важно подчеркнуть, что любая правовая система (национальная) характеризуется не столько особенностями построения юридических норм (они могут быть минимизированы за счет классических алгоритмов юридической техники), сколько определенной спецификой правовой этики и правосознания.
В связи с этим большую помощь могут оказать материалы сравнительно-психологических исследований: учения о психологии народов и национальных архетипах. Второе положение имеет отношение к иерархии базовых ценностей, которые составляют содержание правовой системы. В свете событий новейшей истории становится отчетливо ясной правота тех мыслителей, которые полагали первичными духовно-нравственные ценности.
Духовно-нравственные ценности определяют идеологию, в том числе тот ее блок, который называется правовым. Она в свою очередь оказывает влияние на правовую культуру, правосознание и реализуется в правовой политике.
Приведенная структура, конечно, во многом схематична, но она отражает основные конструктивные элементы национальной правовой системы: духовно-нравственные ценности, воплощенные в исторической судьбе нации, правовую идеологию, правовую культуру, правосознание, правовую политику. Именно с учетом этой конструкции предлагается давать характеристику различных правовых систем.
Третье положение, требующее уточнения, указывает на «горизонтальную» структуру правовой системы. В ней представлены различные институты и отрасли права: гражданского, семейного, финансового, административного и т. д. Имея в виду классическую триаду, образующую правовую систему – правовую идеологию, законодательство и юридическую практику,– легко заметить, что в ней могут быть выделены различные блоки, соответствующие не только отраслям права, но и социальной проблематике (с учетом ее актуальности) или задачам научного поиска, например блок обеспечения национальной безопасности.
В настоящее время в мире сформировалось множество различных правовых систем. Кроме того, теоретики права указывают на существование феномена правовой семьи, под которой понимается «совокупность национальных правовых систем, выделенная на основе общности источников, структуры права и исторического пути его формирования».
Интересно
Наиболее известна типология родственных правовых систем (правовых семей), предложенная известным французским компаративистом Р. Давидом, который выделяет романо-германскую правовую семью, семью общего права, семью религиозного права, дальневосточную семью (основанную на этических принципах) и семью социалистического права.
Признавая неоспоримый авторитет Р. Давида как выдающегося компаративиста современности, следует привести несколько иную типологию, разработанную В. Н. Синюковым. Как и цитируемый французский автор, В. Н. Синюков выделяет семью общего права, романо-германскую правовую семью.
Однако место семьи социалистического права в его типологии занимает славянская правовая семья, в рамках которой существуют правовые системы славянских государств, включая российскую правовую систему. Кроме того, В. Н. Синюков объединяет правовые системы Дальнего Востока и правовые системы государств Тропической Африки в обычно-традиционную правовую семью.
С учетом сказанного предпочтительной представляется следующая типология правовых семей:
- романо-германская правовая семья (континентального права), в рамках которой будут затронуты правовые системы ряда западноевропейских государств;
- англосаксонская (англо-американская) правовая семья, или семья общего права (внутри данной правовой семьи особый интерес представляют правовые системы Англии и США);
- религиозная правовая семья – сюда включены правовые системы тех государств, которые активно опираются в правовом регулировании на религиозные установки ислама;
- семья обычно-традиционного права – это прежде всего основанные на традиции, ритуале, своеобразных этических ценностях правовые системы Индии, Китая и Японии;
- славянская правовая семья, признаки которой важно иметь в виду, для того чтобы знать, от какого наследства отказалась Россия, осуществляя правовые реформы, и оценить возможности ее возвращения в лоно этой семьи.
Следует оговориться, что данная типология не претендует на оригинальность и согласуется с имеющимися классификациями. Еще юристы царской России выделяли такие типы правовых семей, как семья общего права, семьи романского права и мусульманского права. Убедительным аргументом в пользу оптимальности рассматриваемой типологии является ее согласованность с цивилизационным подходом выдающегося английского историка А. Дж. Тойнби.
В действительности, если исходить преимущественно из юридических признаков, большое число государств характеризуется наличием правовой системы смешанного типа. По данным исследовательской группы «Правовые системы мира» Университета Оттавы, смешанные правовые системы имеют 96 государств.
Такой подход, как и выделение государств – представителей моносистем права (континентального, общего, обычного, мусульманского), следует признать условным, в ряде случаев он требует уточнения с учетом не только юридических, но и других системообразующих обстоятельств. С методологической точки зрения также чрезвычайно важен вопрос о криминологических школах: классической, позитивистской, социалистической, постмодернистской.
Его анализ позволяет сформулировать тезис и необходимости создания интегративной школы криминологии, которая должна отвечать ряду требований:
- Восприятие (творческое наследование) базовых положительных (подтвержденных практикой) идей всех предыдущих (изученных к настоящему времени) криминологических школ.
- Реализация диалектического метода, системного и синергетического подходов. Их полезность для сравнительной криминологии обусловлена «встроенностью» криминологических объектов в различные по характеру и уровню социальные процессы. В связи с этим большую актуальность приобретает задача криминологической разведки.
- Использование положительного общечеловеческого опыта противодействия преступности: следование идеям справедливости, нравственности, ответственности, власти как конструктивной силы.
- Изучение, оценка и восприятие положительного опыта смежных (стыковых) исследований социальных отклонений, которые осуществляются в других отраслях знания.
- Согласование профессионализма (при получении и интерпретации информации) и транспарентности (доступности результатов криминологических исследований и их «прозрачности»).
Статьи по теме
Полезные статьи







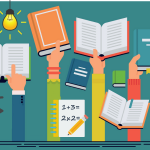

Узнайте цену услуг:
Узнай цену консультации
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)

